метафизический салон пост(советского) искусства
Историк искусства и критик Юлия Тихомирова ищет корни современного искусства в наследии «левого МОСХа» и через него же вводит и дает определение такому понятию в искусстве, как «метафизический салон».
«В России, однако же, невозможно написать порядочную абстрактную картину, не сославшись на Фаворский свет»
Борис Гройс, «Московский романтический концептуализм», 1979
«Для того чтобы дать мировосприятию имя, набросать его контуры и рассказать его историю, необходима глубокая симпатия, преобразованная отвращением»
Сьюзен Сонтаг, «Заметки о кэмпе», 1964
То, что время от времени наступает неотвратимость ревизии, – дело обычное. Кажется, что ситуация сегодняшнего дня располагает к этому в полной мере, делает пересмотр советского искусства, а следовательно, и истоков современного искусства России не только своевременным, но необходимым. Подпольное искусство в целом и концептуализм в частности художественные критики в один голос возводят в традицию, за которую цепляется современное (в значениях «актуальное» и «здесь и сейчас») искусство. Эту линию начинают с «шестидесятников», зачастую с «Красной двери» Михаила Рогинского, проводят через «знаковые» работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, «Коллективных действий», Комара и Меламида, иногда присоединяя по пути Владимира Янкилевского и Владимира Вейсберга, и заканчивают примерно на художественном поколении Ирины Кориной и Виктора Алимпиева.
Но вся эта история – история искусства, написанная художниками, – ведется от лица многоликого ненадежного рассказчика. Что, впрочем, совершенно нормально для истории совриска. Но почему мы ограничиваемся только одной версией этого нарратива? Почему не дать право другим голосам? Если эта история донельзя субъективна, значит, можно рассказать ее и с иной позиции. Что, если попробовать представить историю современного искусства России с позиции так называемого «левого МОСХа»? Да, эта история также будет невероятно субъективной, но, соединив множество версий, можно будет в будущем оглянуться на более полную картину.
Многое из того, что сейчас происходит в современном искусстве России, я называю «метафизический салон», и начало его я вижу как раз в «левом МОСХе». В этой статье я раскрываю это понятие и обрисовываю его потенциал. Гипотеза о парадигмальной «победе» линии «левого МОСХа» (на момент 2022–2023 годов) кажется неизбежной, если браться за пересмотр истории российского современного искусства.
Но для начала обратимся к музеям и к истории.
Динамическая история искусства
Между «Черным квадратом» Малевича и белыми полотнами Кабакова [ 1 ] 1. Речь о картинах «Человек и домик» и «Бердянская коса». есть что-то еще. Я имею в виду: любая экспозиция советского и российского искусства XX века предполагает длинную вереницу залов, и между ключевыми залами будут те, что посетители проходят быстро – настолько, что там почти всегда безлюдно. Некоторые залы используют для того, чтобы посидеть на диване, отдохнуть. Мимо некоторых – просто быстро проследуют, не запоминая. Иными словами, не подобрать лучше иллюстрации к слову «проходняк». Все это относится и к так называемым залам МОСХа и СХР в Новой Третьяковке: что-то в самом устройстве этих картин сопротивляется тому, чтобы быть расположенными в назначенных им залах.
Музей – это представление истории искусств в динамике. Динамическая история искусств в самом буквальном смысле, ведь исследователь совершает передвижение: даже композиция залов влияет на то, как оседает восприятие бытийствования искусства во времени. Поэтому интересно рассмотреть то, как композиционно составлены основные коллекции Корпуса Бенуа в Санкт-Петербурге (далее РМ, Русский музей) и Новой Третьяковки (далее: НТ) в Москве. Новая Третьяковка линеарна и стремительна, тогда как Корпус Бенуа круговертен. Экспозиция Новой Третьяковки ветвит век, разделяя единое; Корпус Бенуа же спрессовывает множественное. Пройдясь по экспозициям обоих музеев, можно заметить несостыковки в логичной, стройной и поступательной истории советского искусства, пронизанной дихотомиями и штампами.
Художники «левого МОСХа» застряли в неопределенности для критиков и теоретиков. В обзорной статье к коллективной монографии АХР, посвященной позднесоветскому искусству, Александр Якимович [ 2 ] 2. Якимович А. Позднесоветское искусство России, 1960–1990 // Иньшаков А. (сост.) Позднесоветское искусство России: Проблемы художественного творчества. М.: БуксМАрт, 2019. С. 418–422. акцентирует внимание на том, насколько сложно дать определение кругу (хотя и не кругу вовсе) художников-«семидесятников». Им нет названия – от бесприютности их и записали в «левый МОСХ», что неточно, так как ни политически, ни эстетически нет в них «левизны». Кроме того, членство в Московском отделении Союза художников – спорное основание для их объединения, так как сразу смещает акцент с художественных характеристик произведений – стилистических, формальных, мифологических – на институциональную принадлежность того или иного художника. «ЛевоМОСХовцев» Якимович определяет как промежуточных художников (они и не официальные, и не неофициальные, они и самостоятельные, и «подневольные», и экспериментаторы, и усредненные осторожничающие авторы), а также обращает внимание на их неустроенность в истории искусства в силу выше упомянутой неопределенности и того, что узнаваемость их обязана присутствию в названии лояльной к власти структуры МОСХа. Для академического искусствоведа и историка искусства Александра Якимовича так называемые художники МОСХа, они же «семидесятники», как их часто называют в литературе, – Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова, Ольга Булгакова, Александр Ситников, – представляют интерес как историческое явление, «дух эпохи», тогда как ситуация с художественными критиками, работающими в той или иной степени с актуальным искусством, несколько иная. Для критика этот перечень имен представляет скорее проблему, чем интерес, ведь он очевидно демонстрирует, что история современного искусства в России не может быть ограничена «каноническим» набором неофициальных художников и тех, кто якобы безусловно наследует их линию. Действительно ли история искусства – это история четкой преемственности, а художники подобны участникам эстафеты, передающим друг другу эстафетную палочку?

Можно ли определять художника через бинарную оппозицию «официальное» vs «неофициальное», где к каждому «лагерю» прилагается набор штампов? Так, неофициальные – непременно свободолюбивые новаторы, бросающие вызов скучному и безынтересному стилю официальных. Официальные же, в свою очередь, или аморфны, или наивны, или чересчур мелочны и вторичны, или, напротив, «музейны» и забронзовели уже при рождении. Этого штампа не удается избежать даже специалистам: например, автор недавно вышедшей книги о Лидии Мастерковой [ 3 ] 3. Мастеркова-Тупицына М. Лидия Мастеркова: право на эксперимент. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022. С. 10–12. Маргарита Мастеркова-Тупицына отмечает, что именно критики повесили на художницу ярлык «страдалицы, притесненной официальной парадигмой». Лидию Мастеркову представляют в первую очередь как художницу, «бросившую вызов» скучному советскому официальному искусству и советской же идеологии, что создает впечатление, будто самоценность ее искусства нуждается в легитимации через бинарную оппозицию. Недостаток самоценности. Цельность искусства обеспечивается за счет апофатики. Мастеркова-Тупицына верно подмечает эту нехватку именно искусствоведческой чуткости, но в конце концов и сама (по собственному замечанию, противясь постмодернистскому искусствознанию в целом и «Гезамткунстверк Сталин» Бориса Гройса в частности) акцентирует внимание на восприятии Мастерковой как «амазонки второго авангарда», на ее «болезненных отношениях со структурой МОСХа», на пресловутом «или-или». Или официальная репрессивная структура, или подполье. Или постмодернистская игра в государство-художника, или сведение эпохи к противостоянию официального и приставки «не». Это что касается художественной критики и теории искусства, то есть того, что современное искусство считывает как свою теоретическую часть (думаю, не требуется уточнять, какой вклад в формирование «(не)официального канона» внесли и Маргарита Мастеркова-Тупицына, и Борис Гройс).
Резюмируя, можно сказать, что художественная критика, к которой по преимуществу восприимчиво художественное сообщество в России, отталкивается от канона неофициальных художников, заложивших понятие собственно «современное искусство». Это не голословное утверждение: на обложке знаменитого журнала «А-Я» рядом со словом «contemporary» стояло слово «unofficial». Это сильное заявление, из которого можно сделать сильный вывод: очевидно, по мнению издателей журнала, именно их выбор произведений был выбором в высшей степени актуальным, выбором, определяющим «сейчас» в искусстве. Чтобы быть contemporary и получить серьезную легитимацию для тех мест, откуда это contemporary вышло, искусство должно было быть актуальным текущему состоянию искусства на Западе. Спекулятивная борьба «официального» и «неофициального» искусств отрезка 1970–1980-х в СССР в итоге была нацелена на овладение «сейчас», а кто владеет «сейчас», тот и владеет тем, что на этом «сейчас»-фундаменте будет построено «потом».
Ставка критика на своего художника будет оправдана только в том случае, если его искусство «сейчас» (из универсума прошлого) будет актуализироваться в «потом» (универсум настоящего) с постоянной интенсивностью. А потому именно позиция неофициального искусства, которая была частью бинарной системы и в которую встроен был режим заигрывания с государством-художником, является тем прошлым, что сконструировало (и, можно сказать, даже выбрало) себе современное искусство. Этого ясного и определенного, однозначного и безальтернативного прошлого не было, но оно реальнее, чем уверенность в том, что музей завтра откроется вовремя. Здесь стоит вспомнить тезисы «О понятии истории» Вальтера Беньямина, в которых автор явно дает понять, что судьба прошлого в руках у живущих ныне: «Враг, если он победит, не пощадит и мертвых». [ 4 ] 4. Беньямин В. Девять работ. М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс». С. 206. В нашей ситуации нет никаких врагов, благо современное искусство – не война. Но логика Беньямина прекрасно ложится на реалии совриска: настоящее «оживляет» прошлое или же закапывает его еще глубже. От настоящего зависит, чья линия оборвется, а чьи художественные эксперименты останутся жить в последователях и тех, на кого они повлияли.
Прошлое, каким его видит contemporary art настоящего времени и каким оно предстает в залах НТ и РМ по отдельности, – неполное. Ветвление единства и круговорот множественности в двух замкнутых музеях дает две перспективы. Возможно ли их совместить для получения наиболее точного отражения семидесятых годов XX века в искусстве СССР?
Сделаю краткое отступление, чтобы показать, как временные выставки транслируют сказанное мною выше. Попытки построить понятную траекторию развития современного искусства (от советского к российскому) предпринимались и продолжают предприниматься. Многообещающей представлялась выставка «Вещь. Пространство. Человек. Искусство второй половины XX – начала XXI века из собрания Третьяковской галереи» (2022) под кураторством Ирины Горловой и Игоря Волкова. Но изначальный лейтмотив выставки «Все мы вышли из красной двери» (имеется в виду знаменитая «Красная дверь» Михаила Рогинского) оказался в итоговом варианте экспозиции приглушен и затерян под грохотом амбиции визуализировать традицию и вновь утвердить канон. А ведь вопросы интересные: кто «мы»? Кто еще вышел оттуда? Где стоит и куда ведет красная дверь? На выставке постулировались убеждения куратора Ирины Горловой, а именно: современное искусство суть искусство неофициальное, именно оно породило традицию того, что мы называем актуальным и современным сегодня. Удивительно, что эту гипотезу во время работы над проектом никто не поставил под сомнение, и в итоге выставка лишь повторяла уже распространенное: неофициальное = современное.
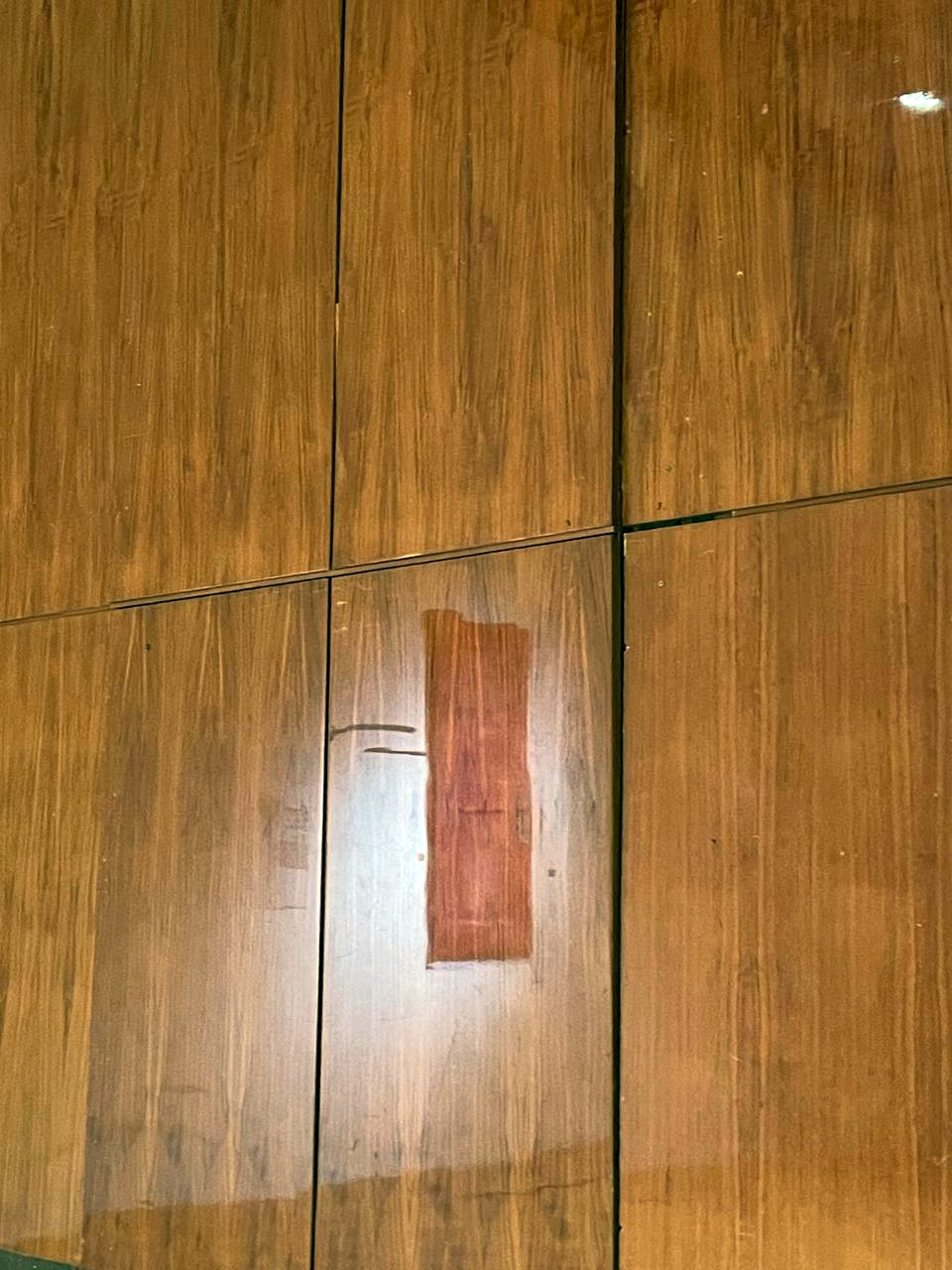
У нас есть канон. Но канон – это не только свод правил. Канон – это еще и согласие. Спеть канон – значит вовремя вступить, выслушав и по-настоящему услышав предшественника, канон – еще и образчик взаимопонимания. И – кроме того – повторения. В каноне голос (или голоса) повторяет вслед за предыдущим. История искусства как попытка канона – звучит красиво, но малореалистично. Критик для художников (нынешних и ушедших) выступает в роли дирижера, тщетно пытающегося привести голоса к согласию: он пытается привести огромный пласт искусства к системе, но всегда что-то выпадает; раздрай наступает тогда, когда у беззвучной прежде птицы прорезается голос. В несогласии звучит вопрошающее: а я?
История искусства удивительна тем, что ее выбирают из будущего; но и сама она вольна определять себя в моменте как то самое, нужное прошлое. «Подпольное» (к слову, уже в 1970-е годы однозначное членение на подпольное и государственное было невозможно) искусство, противопоставляющее себя «академизму», избралось как фундамент для «потом». И сейчас мы в том «потом», где между «Черным квадратом» Малевича и белыми полотнами Кабакова есть что-то еще. Что это на самом деле?
***
Музей намекает. Выставка «Вещь. Пространство. Человек» начиналась с «Красной двери» Рогинского и с ее странного двойника: красная дверь отражалась в лакированной деревянной перегородке, которая напоминает дверцу советского серванта, – это неотъемлемая часть архитектуры западного крыла НТ. Отражение демонстративно не совпадало со своим референтом – оно искаженное, волнистое и приглушенное; промежуточные цвета, фактуры и узоры делали яркий акцент двери в белом кубе собственным негативом. В памяти маячит картина, колоритом и настроением явно соответствующая этому отражению. И это не что иное, как картина Ольги Булгаковой из так называемого «театрального цикла». Конечно, именно такой сцены мы не встретили, но увидели много подобного: мутный тяжелый колорит, мигреневые, стойкие в своей зыбкости миражные сочетания бархата и травертина, гротескные фигуры артистов – то собакоголовых, то колоннообразных, то крючкоподобных, нотных. За понятной и конвенциональной историей истоков совриска непременно маячит зазеркальная, изнаночная, странная, взволнованная ее сторона. Так с чего начинается оно, современное искусство: с красной двери или с ее зеркального двойника? Выставка, начинавшаяся с яркого акцента неофициального искусства, тем не менее будто бы нарочно разоблачала себя, намекая на полупрозрачное присутствие альтернативной истории.
1.
Художников «левого МОСХа» Ольгу Булгакову, Наталью Нестерову и Татьяну Назаренко сложно разместить в какой-либо системе координат, в особенности линейной, где все стремится в дурную бесконечность, выражаясь расхожей фразой Гегеля (вспомним, что канон суть повторение одного и того же). Александр Якимович из всех номиналистских зол выбирает для этих художников «третий путь», делая ремарку, что их институциональное и художественное положение все-таки крайне неопределенно и даже в «третье исключенное» однозначно вписать их нельзя. Но что, собственно, значит «третий путь»? Путь – это в первую очередь маршрут из точки А в точку Б, нечто стремящееся от одного к другому; маршрут такой не исключает тропок-разветвлений, возможности сделать шаг назад, но тем не менее он предполагает начало и конец, поступательное движение. Такой путь представляет собой постоянная экспозиция Новой Третьяковки. Но все ли логично на этом пути, все ли складывается во вполне определенный нарратив? Отнюдь: художники второй половины XX века сгруппированы в два раздела – «Искусство советской эпохи. 1950–80-е» и «Неофициальное искусство. 1950–90-е». Они как будто противопоставлены друг другу, но эта оппозиция на самом деле условна, если не некорректна: «советское» здесь противостоит «неофициальному», хотя по сути первое должно поглотить второе, – все-таки даже художники «андеграунда» жили и творили в СССР. Но и если принять оппозицию «неофициальное» / «все остальное», остаются вопросы: почему в «неофициальное» включены Рогинский и Колейчук, но не включены Мастеркова, Вечтомов, Немухин? Можно было бы предположить, что истинная дихотомия, формирующая экспозицию НТ, построена по принципу активного отрицания и активного утверждения советской политической парадигмы, где за утверждение котируется в том числе и игнорирование. Но почему в таком случае Оскар Рабин, активно выражавший свою политическую позицию во время знаменитой «Бульдозерной выставки» [ 5 ] 5. Мастеркова-Тупицына М. Лидия Мастеркова: право на эксперимент. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022. С. 10–12. и не только, не включен в пантеон «неофициальных»? Или, может быть, «шестидесятники» еще не могут быть неофициальным искусством? Темпоральный принцип также отметается, так как наравне с Рабиным и Турецким оказываются Булгакова и Назаренко, традиционно относимые к «семидесятникам» и расцениваемые своими современниками как «младшие МОСХовцы». Любая рациональная попытка выделить здесь два однозначных пути, две четкие группы со своим автономным поступательным движением от точки А к точке Б распадается. Дихотомия на поверку оборачивается ризомой. Такой странный ход оказывается своего рода творческой удачей: экспозиционное сближение Краснопевцева и Булгаковой, Мастерковой и Нестеровой позволяет говорить об интересном видении, свободном от догмы бинарной оппозиции. Сама логика экспозиции уязвима, напрашивается на то, чтобы ее ставили под сомнение.

«Неофициальное искусство» – это во многом миф, полагающийся на логику «двух путей», и развенчивает его не некий «третий путь», встраивающийся в логику параллельных друг другу прямых («неофициальное» / «официальное» и между ними, в зазоре, «середнячок»), а нечто другое. Это другое вообще не предполагает поступательное движение из прошлого в будущее; его невозможно представить в виде четкой, изолированной от всего линии. Но об этом позже. Сейчас время обратиться к Русскому музею.
2.
План экспозиции Корпуса Бенуа Русского музея на первый взгляд больше напоминает бесконечность истинную. Внешний большой круг второго этажа посвящен концу XIX – началу XX века: логически он начинается с Врубеля, но как-то уж так вышло, что я всегда ошибалась дверью и с Врубеля не зашла еще ни разу. Я много раз начинала «не оттуда» – не с начала, а с середины, с Ларионова и Гончаровой. Это натолкнуло меня на размышления о том, насколько сильное влияние имеет так называемая «точка входа», буквализированная в экспозиции РМ, на оптику исследователя: искусствовед, впервые полюбивший искусство благодаря альбомам Кабакова, будет волей-неволей в черном квадрате угадывать вид из шкафа. То, что послужило импульсом к погружению в определенную сферу, будет чем-то вроде «импринта», который оказывает влияние все время в дальнейшем.
Точка входа – это в случае истории искусства еще и, как становится понятно, точка зрения. Точек зрения, очевидно, много, но это не означает, что истин в истории искусства столько же, сколько этих точек. Скорее, точка зрения – необходимое условие для того, чтобы ее обладателю открылись истины истории искусства во всем их многообразии и во всей нюансированности. Композиция залов РМ также спрессовывает разнородное: например, Назаренко, Нестерова и Булгакова представлены в одном ряду с Жилинским и Попковым, хотя как поколенчески, так и стилистически они принадлежат к разным кругам и явно требуют дифференциации. Попков – представитель романтического сурового стиля, пытавшегося вдохнуть веяния ветров (северный ветер – как «Северная песня» вдов в известной работе Попкова) в официально одобряемое советское искусство, которое было посвящено подвигам рядового человека – рабочего, солдата, ученого. А те, кого я называю «метафизический салон», тяготеют к «бесшовной сюрреальности» и выбирают героями своих работ или себя и свой круг, или исторических персонажей, или «странные атмосферные явления». Очевидно, «левый МОСХ» оставляет музейщиков в растерянности: что с ними делать? Куда их отнести? Как обозначить их своеобразие? Попробуем разобраться.
Салон против белого куба
Художники, активно работавшие в 1970-е годы – что «официальные», что «подпольные», – остались с тем, что принес северный ветер сурового стиля. На чьи-то полотна он, сметя все, принес пустоту, интенсивное сияние света, гладкость, стерильность; а на чьи-то – множество вещей, множество фактур, захваченных издалека, из других эпох и других континентов, – он оставил им множественность, которую можно назвать «полистилистикой». Минималистичный ландшафт холста, с которого ветер перемен снес все лишнее, тяготеет к белому кубу, к лаконичной и воздушной (то есть оставляющей воздух) развеске: такое экспозиционное решение расширяет картину, органично примиряя ее внутренность с музеем. Такие полотна самодостаточны, они не тянутся слиться с другими произведениями в зале – подобно соседствующим на одной стене окнам, каждое из которых открывает вид на свой пейзаж. Двери-порталы из «Хроник Нарнии». Они не стремятся к ансамблю. Крайняя самостоятельность даже внутри циклов. Их стерильная лаконичность, свет или его негативный антипод, тьма – абсолют в любой ипостаси, – хорошо смотрятся в музее современного искусства, практикующем умеренную развеску с большим количеством свободного пространства.
Картины, представляющие собой нагромождение (как изображенных предметов, так и «грязных» оттенков, отличных от абсолюта света или тьмы, резонирующих, а не контрастирующих), хочется перенести туда, где шпалерная развеска оставляет мало воздуха и света. Такая развеска соединяет полистилистические картины в одно тотальное произведение, которое включает в себя и сам салон: мелкая множественность, соседство всего со всем также расширяет одну отдельную работу посредством включенности ее в общий ансамбль салона.
Сущностным аналогом полистилистических картин является музыка Альфреда Шнитке, работавшего, к слову, в те же годы, что и «метафизический салон МОСХа», и на той же мерцающей территории формально официального искусства. Шнитке долгое время считался преимущественно кинокомпозитором – киномузыка представляла собой пространство эксперимента. В кино композитор получал больше свободы – он считывался официальными структурами как декоратор; ему Союз композиторов мог позволить больше, чем композитору, пишущему, так сказать, «полноценную-самоценную музыку». Находясь в официальной структуре, Шнитке мог экспериментировать со стилизацией: не заимствовать, скажем, у Баха, а писать так, как он представляет Баха, проводя эйдетическую редукцию Баха и выделяя суть его музыки для современного уха. Отличие цитатности от полистилистики заключается в степени размытости границ: полистилистика бесшовна, тогда как границы цитат определены четко. Именно бесшовность способствует успешному включению одной полистилистической работы в другую – они спокойно могут дополнять друг друга. Господин оформитель Шнитке (художник метафизического салона) вписывается в кино так же, как Булгакова-Нестерова-Назаренко-Ситников вписываются в интерьер, образуя кинематографическую сцену.
Нетрудно догадаться, что «пустоту», лаконичность, воздушность (то есть отсутствие нагромождения) представляют такие художники, как Эрик Булатов, Олег Васильев, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, а «полистилистику» – Наталья Нестерова, Татьяна Назаренко, Ольга Булгакова, Александр Ситников. Там и тут у художников «метафизического салона» возникают предметы, наполняющие пространство нелогичностью, атектоничностью. Всего много: и отсылок к старым мастерам (разной степени старости); символических атрибутов вроде театральной бутафории, призраков; атмосферных явлений вроде сильного ветра в летний день на картине «Гоголевский бульвар» Нестеровой.
Не стоит, однако, сразу же приравнивать «пустоту» к «неофициальному», а «полистилистику» к «официальному». Полистилистичны и сюрреальны, между тем, работы семидесятых годов Льва Повзнера, который, по его собственным словам, чувствовал явную разницу и пропасть между «своими», подпольными, и «другими» МОСХовцами, «прорехой на человечестве». Работа Льва Повзнера «Выставка на открытом воздухе», включающая портрет Михаила Рогинского, представляет собой крайнюю степень нагромождения, и воздуха на ней почти совсем нет. Повзнер изображает столпотворение жаждущих свободы, но всего и всех слишком много – все хотят набрать полную грудь воздуха на уличной выставке, а потому зрителю уже ничего не остается. Картин на изображенной выставке много – они уходят вдаль вместе со стеной, они теряются в стоге ящиков. Но – что важно здесь – мы не можем точно определить, где, с кем, и что именно происходит. Дано промежуточное состояние – именно состояние: тянущаяся, удаляющаяся, громоздящаяся выставка существует не в движении и изменении, а уже данностью. Панно одновременности полудействий. Это данность всевременья (и безвременья одновременно), данность неизведанного ритуала.

Так тянется в «театральном цикле» Ольги Булгаковой то ли странный спектакль, то ли вечное закулисье, то ли сумрачный антракт. Большое полотно «Театр. Актриса Марина Неелова» (1976) показывает то ли последовательность действий, то ли одновременность, то ли грезу и «собирательный образ», то ли парадный портрет. Неоднозначность и перетекание материи отчетливо видно в доминанте работы – колонне-кулисе, подчеркивающей центральную фигуру актрисы. Может ли существовать вещь, внутри которой происходит слияние бархата с травертином? Оказывается, может. Атмосфера картины затхлая, полуподвальная, пыльная. Как на барахолке истории. Буквалистски это явление, блошиный рынок эпохи, отобразила в своей поздней работе «Обломки» Татьяна Назаренко: на фоне нисходяще-голубого неба лежит огромная куча (вспомним стога с картинами) художественных образов.

Всего много и все вместе – палимпсестом ли, как «призраки» на самых известных картинах Назаренко, или же сваленной закулисной декорацией, как у Ольги Булгаковой, или погодными аномалиями и маслом, будто бы извивающимся на раскаленном холсте, как у Натальи Нестеровой. Общее у этих работ то, что им чужда строгая дизъюнкция, – они вариативны; мы не можем с точностью сказать, что именно происходит [ 6 ] 6. Важное исключение здесь составляют работы Нестеровой на библейские сюжеты. , где происходит и каким образом, притом разнородные элементы не вступают не то что в конфликт – даже в контраст; они резонируют в общности, как аккорд с малой секундой (резонанс является условием его существования: стоит убрать одну ноту, как аккорд перестает быть собой). Несмотря на символичность (зачастую чрезмерно прямолинейную) отдельных элементов-предметов, общий посыл, месседж работ остается мутным, глухим стеклом, вибрирующим неочищенным, нестерильным резонансом.
Люди-статуи Нестеровой на картине «Летний сад. Белые статуи» (1982) на первый взгляд сродни балансирующим на краю пьедесталов советским статуям Гриши Брускина, но если у Брускина есть азбука, «Фундаментальный лексикон» (1986), то Нестеровой чужда как семиотика, так и эсхатология Ветхого Завета, – ей гораздо интереснее посюсторонняя фактура: мы не можем разгадать, из чего эти статуи, для чего они, как к ним отнестись. Это не диковинка из закрытой социалистической страны (à la шинуазри эпохи рококо) и не алфавит, по которому иностранный куратор, как культуролог и историк, сможет изучать быт неведомой ему и уже разваливающейся страны: это повседневные и неразгаданные существа на грани реального и воображаемого; они тоже балансируют, и ветер колышет их материал (сложно сказать, мрамор это или сметана). Ветер не обещает превращение всего в руины – он нормален и то приносит мусор, то уносит, обрекая мир на диалектику отсутствия и наполненности.
Метафизический салон МОСХа превращается в проходняк в невыгодных условиях: ему слишком много воздуха в белом кубе; полистилистические картины аляповаты и чужеродны как НТ, так и РМ. В НТ есть три «коллекционерских» зала: Костаки, Некрасова и Талочкина. И вот именно по аналогии с залами Костаки и Талочкина могли бы органично существовать коллекции «сюрреального МОСХа». Они просятся в салон, но не всякий их приемлет, разве что коллекционер вроде загадочного Тимофея Лохматова, героя книги Юрия Мамлеева «Другой». Он узнал в одном из чудищ, созданных художницей, самого себя и немедленно приказал заполучить картину и саму художницу. Художественный аналог позднего Мамлеева, времен «Другого», – это как раз «метафизический салон». Следует оговорить, что слово «салон» здесь не отсылает напрямую ни к академическим салонам, ни к «Салону корреспонденции», ни к череде парижских салонов. Ближе всего определение «метафизический салон» к домашним салонам с их интермедиальным, полистилистическим, экзальтированным, герметичным, камерным и «женским» началом. С временными выставками в XVIII веке и частными коллекциями в XVII веке, именовавшимися салонами, «метафизический салон» роднит шпалерная развеска, а также то, что картины в ней воспринимаются не изолированно, а ансамблем, пусть и непреднамеренно. Но почему именно метафизический? Метафизика традиционно считается философией о том, что за пределами физики, о первоосновах. И салон МОСХа представляет собой концепцию безосновности (Ungrund), непознаваемости, несводимой к перечню вещей заполненности и наполняемости, несводимой к сумме каждого отдельного элемента, так как нечто вечно ускользает, – и это нечто выражено бесшовной полистилистикой, неотделимостью одного элемента от другого.
Итак, метафизический салон МОСХа – это искусство бесшовной полистилистики, несводимой к сумме цитат, это формула n+1, где единица суть загадочный элемент, обосновывающий неопределенность происходящего. Художники метафизического салона тяготеют к стилистическим резонансам, но противятся контрастам. Они топорны в символизме, оставаясь на уровне ясных и понятных аллегорий, рассчитанных на интуитивную, а не интеллектуальную интерпретацию, но вот само пространство, в котором творится аллегорическое действие или находится аллегорический персонаж, загадочно. Их искусство невозможно разгадать, оно непрозрачно благодаря своей бесхозности, оно намертво слито и противится разбору на составные части. Это не интеллектуальное, но интуитивное искусство – причем эта интуиция «схватывается» лишь «своими»; оно символично в том смысле, что символы его распознаются определенным кругом лиц, да и улавливается не смысл, а определенный настрой, вайб. Метафизика салона – это метафизика шлягера. А еще метафизический салон находится на грани между пошлостью и божественностью. Мистицизм салона всегда оставляет возможность усомниться в истинной природе ощущаемых чудес: он близок как к пошлым спиритическим сеансам, так и к возвышенным мистериям служб, как к (псевдо)готическим разговорам с призраками, так и к неопалимой купине. [ 7 ] 7. Метафизический салон «левого МОСХа» относится к кэмпу подобно тому, как московский романтический концептуализм относится к концептуализму западному. Сложно не отметить близость феномена кэмпа, каким его зафиксировала в 1964 году Сьюзен Сонтаг, метафизическому салону. Оба они «эзотеричны» и в этой «эзотеричности» являются отличительными знаками определенных сообществ, оба оказываются чересчур экзальтированными, оба низвергают «хороший изящный вкус», оба восприимчивы к XVIII веку, оба театрализуют опыт, оба традиционно в представлении искусствоведов – примеры «плохого искусства», оба тяготеют к интермедиальности, оба серьезно относятся к собственным темам, оба могут вызывать снисходительный смешок. Вот только кэмповские образы вдохновлены Оскаром Уайльдом, в то время как метафизический салон отсылает к Гоголю. Кэмп андрогинен и сексуален, а метафизический салон романтичен и женственен, но асексуален. Кэмповские вещи «суть-то-чем-они-не-являются» – вещи метафизического салона ускользают от апофатического определения так же, как и от четкого позитивного определения. Кэмп – это денди, а метафизический салон – самоотверженный интеллигент («поэт в России – больше, чем поэт»). Как создать современное искусство в России невозможно без Фаворского света, так и кэмп тут невозможен без мессианской фигуры художника и интеллигентского псевдо-культа – с его духом паломничества и самоотверженности во имя искусства, или, проще говоря, с его чуждыми лукавой иронии «духовкой и нетленкой». Кэмп секулярен, его максимум – бытовая магия и суеверность, он имманентен; метафизический салон религиозен в своей сути и признает трансценденцию.
В кинематографе метафизический салон явил себя в нулевые. Позволю себе кратко обозначить примеры: это в первую очередь фильм «Москва» режиссера Александра Зельдовича по сценарию Владимира Сорокина и ранние фильмы Ренаты Литвиновой, такие как «Богиня: как я полюбила» и «Последняя сказка Риты». «Москва» колористически действительно напоминает «левый МОСХ»: ночные и вечерние сцены заставляют вспомнить Ольгу Булгакову, а дневные – Татьяну Назаренко. Тем не менее не только визуально являет себя метафизический салон. Во-первых, вся картина монологична: несмотря на множество героев, через них говорит некая загадочная атмосфера городского межсезонья – она-то и является тем непознаваемым, слабо уловимым связующим, склеивающим отдельные элементы воедино. Это можно назвать «имитационной полифонией». Во-вторых, мистика и чудеса являют себя в простом и известном русском бизнесе 1990-х и 2000-х. Деньги, за которыми гнались герои, оказываются спрятаны в нуле, а вернее, в букве «О» из слова «МОСКВА» на границе с МКАДом. Таким образом, отсутствие, метафизическая безусловность оказываются явлены в символике нулевых и в самом слове «Москва», что можно считывать как переход от структурализма к постструктурализму, а можно – как обычную придумку нового русского с целью загрести побольше бабла в обход друзей. Тем не менее в России даже бизнес мерцает философией.
Фильмы Ренаты Литвиновой, как, впрочем, и все, что она делает, состыкуются с реальностью ребром. Это универсум театра: все сцены ее фильмов даже не претендуют на реальность – все жесты актеров намеренно преувеличены, манерны, гротескны. Они элегантны и юродивы одновременно. Символизм образов также прост: смерть как красивая женщина (но почему-то в желтом, обязательно в желтом, что несколько сбивает), двоемирие как зазеркалье и так далее. В «Богине…» так до конца и не ясно, имело ли место быть путешествие сквозь зеркало в мир мертвых или же это был обычный наркотический трип, существовал ли магический двойник главной героини либо она просто-напросто сошла с ума и опустилась по социальной лестнице на самое дно.
Метафизический салон МОСХа не способен встроиться в активное отрицание и паразитически-сдвиговый способ существования «подпольного» искусства – особенно чужд ему соц-арт. Дискурс соц-арта невозможен без существования идеологии, невозможен без того, что в 1970-е существовало в виде разве что химеры. Большой стиль концептуалистов и соц-артистов был обращен к тому, что уже превратилось в легенду, – это верно отмечает Якимович: советский концептуализм питался силой мифа, живущего более на Западе, чем в самой России. По сути, концептуалисты и соц-артисты питались пустотой в смысле самом строгом – подпитывались отсутствием.
Оттого картины так белы и пустотны. Оттого белое снежное подмосковное поле «Коллективных действий» тоскует – там больше не работают женщины сурового стиля, там дует северная песня, выметающая всякого, кто не подпоет ей. И «Коллективные действия» подпевают. Так Десятников пел с Масловым. [ 8 ] 8. Имеется в виду «Песня колхозника о Москве» Л. Десятникова из саундтрека к фильму А. Зельдовича «Москва» – переосмысление «Песни колхозника о Москве», написанной Ф. Масловым в 1939 году. Въедаясь в мелодию и нарочито беря на октаву мимо. У Десятникова, в отличие от Шнитке, это именно цитаты, воспроизведения, для которых он собирает обрамление, – мы легко отделяем Равеля и Моцарта от самого Десятникова. Мы легко можем понять, где кто и когда происходит сдвиг. У концептуалистов и соц-артистов аналогично: исключением является лишь «романтизм» и влияние религиозного философа Евгения Шифферса, сошедшее к 1980-м годам, казалось бы, на нет. И видимо оттого картины Кабакова так белы: они отражают не Бога и не Солнце – они отражают выцветшую сердцевину советского ордена. В конце концов и они безусловно безосновны.
Концептуалистские работы, что я привожу в пример здесь, – это несомненный канон, визитные карточки тех или иных художников, но что остается за пределами этих самых канонических работ, что принесли им славу? Что же еще эти художники пронесли сквозь все творчество, кроме как концептуализм? И, быть может, в самом концептуализме сильно зерно метафизического салона?
Метафизический концептуализм
В 1966 году студент Строгановки Виталий Комар пишет картину «Курительная комната». Коробка, клаустрофобное пространство с поставленными слегка криво антикизированными урнами, шатающаяся перспектива, кукольность курильщиков, грязные цвета, тяжелый воздух, затаенная тошнотность – так кратко можно набросать основные составляющие этой картины.
В 2015 году признанный во всем мире художник Комар, один из авторов бренда «Комар и Меламид», создатель соц-арта, покупатель души Энди Уорхола, – Виталий Анатольевич Комар пишет серию «Аллегорий». Формально те редкие черты, которые Комар пронес сквозь года, от точки А к точке Б, – это грязные цветовые сочетания, приглушенность даже ярких красок за счет нюансировки тонов, шероховатая фактурность. «Аллегории» не замкнуты в себе – даже приблизительных ограничений универсума не наблюдается: это абстрактные фоны, зеркальные сломы перспективы, круговоротность композиции. Занятно иное: между точкой А и точкой Б было то, что затмило в глазах как широкой общественности, так и специалистов начало и конец Комара, – это соц-арт. Виталий Комар вместе со своим соратником Александром Меламидом создал сконструированное «искусство на экспорт», увлекающее как соотечественников своей дерзостью, так и иностранцев своей прозрачностью и намеренной экзотизацией темы. Именно соц-арт стал тем штампом, который закрепил Комара и Меламида в качестве художников-конструкторов.

Формально станковые работы соц-арта можно описать одним словом – стерильность. «Ностальгический соцреализм» парадоксально ясен даже в своей темноте: так, красное свечение из окна автомобиля генсека в работе «Однажды в детстве я видел Сталина» должно быть приглушенным, но ощущается ярким – это не загадочное фрейдистское unheimlich, на который, вероятно, был расчет, а всеосвещающий свет плакатной идеологии, сродни загадочной советской душе. В этом свете согревается вуайерист-иностранец; этот свет слепит советского эмигранта, становится его идеей-фикс.
Свет же становится неявным лейтмотивом знаменитой статьи «Московский романтический концептуализм». Это и Фаворский свет, на который необходимо сослаться российскому абстракционисту, это и «тот свет», мир иной, а еще иной мир, который постструктуралистски открывают московские концептуалисты. Перечитывая статью, можно увидеть, сколь много «романтический концептуализм» берет от религиозного мистериального мистицизма. Тем не менее существует важное отличие, которое вообще позволяет отнести московских «семидесятников» к концептуализму, – прозрачность искусства. Фаворский свет не ослепляет; зритель может мысленно пересобрать искусство, повторить его, как домашний эксперимент. Да, не все директивы с карточек Рубинштейна удастся выполнить, но сам прием возможно разобрать на составные части, – и от мистицизма останется литературщина. Тем самым можно объяснить и интуитивные ассоциации с романтизмом: ведь именно XIX век тяготел к литературоцентричности в искусстве. Это та самая черта романтизма, которую можно легитимно приписать и художнику круга «московского романтического концептуализма». И все же ключевой вывод, на котором я собираюсь остановиться подробнее, таков: «романтический концептуализм» синтезирует метафизический салон и интеллектуальный конструктивизм концептуального искусства (где под конструктивизмом понимается «сделанность» искусства, его холодная и расчетливая продуманность).
В связи с этим представляется необходимым выделить две возможные линии (пост)советского искусства: конструктивизм, где конструктором выступает как зритель, так и художник; и метафизический салон, где главенствует принцип «неслиянность и нераздельность». Причем принцип этот относится в равной степени к салону и к каждой отдельной картине, к элементам внутри картины, к отдельным картинам по отношению друг к другу внутри салона. Можно сказать, что салон близок вагнеровскому «Гезамткунстверк», тотальному произведению искусства.
И вот, проводя такую дифференциацию, можно заметить, что вообще-то отправная точка для многих канонических концептуалистов была метафизична, и – более того – в метафизический салон они и возвращаются. Поздний Комар яркое тому подтверждение. Аллегории (медведь-Россия, чаша весов) настолько же топорны, насколько топорен символизм зрелой Булгаковой (литературный цикл); цвета все еще пытаются работать на контрасте, иногда пускаясь в розово-белый разнос в духе китчевых нулевых, но шероховатая фактурность сглаживает этот контраст; чистых, ясных моментов все меньше – запутанности и мешанины все больше. Отдельные элементы аллегорий понятны и ясны, на то они и аллегории, но разгаданные элементы в своей сумме не дают ответа про работу в целом. В белом кубе такой Комар смотрится халтурой, но стоит мысленно поместить его в шпалерную развеску, и восприятие изменится.
Так оказывается, что родоначальник соц-арта – чистый конструктивист и по своей сути оказывается представителем метафизического салона. Более явное тяготение к салону ретроспективно проглядывается у Ильи Кабакова, который поколенчески и вовсе располагается ближе к художникам «сурового стиля», – свои ранние работы он характеризовал как «сезаннистские», а именно официальные «шестидесятники» смогли выбить себе право быть сезаннистами. Но даже «неофициальный расцвет» Кабакова оставляет место для единицы непознаваемого: фрактальное мельтешение, захламленные комнаты, полеты мебели и статуй в альбомах, ангелы – все это явный мистицизм, противящийся рационализации. Практически напрочь это уходит в станковых работах 1970-х и 1980-х – жилищных таблицах, полифонии говоров и комментариев коммунальной квартиры. И вновь возвращается с неведомой доселе силой в работах 2010-х годов: колорит пейзажей фонит, в небе мерцают прорехи. Более нервная и опасная осцилляция между пошлостью и божественностью – вот что приходит к позднему Кабакову.
Фаворский свет может быть процитирован, а может быть рассеян по картине. Процитированный Фаворский свет может быть разложен наряду с другими элементами, и пусть в сущности своей не разгадан, как цитатная единица – он прозаичен и сводим к самому себе. Рассеянный же поистине исихастский Фаворский свет не может быть пойман и вычленен в качестве элемента – он и есть тот жар, что обуславливает сплавленность элементов внутри произведения. А вот источник его остается загадкой: он то Бог, то мерцающая лампочка в подъезде – примерно с равной вероятностью, хоть перекосы то в одну сторону, то в другую и варьируются от картины к картине.
Таким образом, спустя время стоит признать, что в романтическом концептуализме главенствующей была и остается «метафизическая» составляющая. Интересно также, что на международной сцене она востребована не была: Кабакова знают как автора тотальных инсталляций, «вариаций на советскую коммунальную тему» – именно за них он получил специальный приз 45-й Венецианской биеннале, именно они стали его визитной карточкой. Комар и Меламид также осознаются широкой общественностью как мастера сатирического перформанса с поеданием блюд из газеты «Правда», как авторы «Лозунга», «Ностальгического соцреализма» и так далее. И все же все ветры возвращаются на круги своя: метафизическая часть возобладала, став между тем еще и салонно-метафизической. [ 9 ] 9. Сьюзен Сонтаг упоминает в своих «Заметках о кэмпе», что кэмп, осознавший себя таковым, уже не является удачным (Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 296). Но что будет, если метафизический салон осознает себя метафизическим салоном и концептуализирует себя? История советского искусства знает такой пример. Речь о поэтессе, писательнице и художнице Ирине Пивоваровой, вхожей в круг московских романтических концептуалистов. Ее художественное наследие ограничивается графикой, что отчасти не удивительно, ведь свою художественную деятельность она воспринимала как побочную – все упоминающиеся ниже рисунки датируются 1960–1970 годами. На первый взгляд они – чистый салон. Сюжетно это городские сказочные пейзажи, портреты странных и зачастую малоприятных персонажей, обнаженные женские тела, переплетенные стволы деревьев и то, что можно назвать сюрреалистическими проявлениями бессознательного, то, что мы чертим на полях тетрадок во время урока, лекции или заседания. Женские фигуры экзальтированные, манерные; как персонажи, так и элементы пейзажа невнятны. Но, приглядевшись, нетрудно заметить те самые бесшовные цитаты: в «Мертвой голове» узнается типичная рожа Целкова, только в профиль; странные «инопланетные» существа напоминают обитателей мира «Стеклянной гармоники» Юло Соостера. Женские портреты заставляют вспомнить графические же портретные работы Татьяны Глебовой (например, «Критик» и «Семья критика» 1937 г.). Два портрета схожего колорита (видимо парные, женский и мужской) представляют собой странное смешение техник Филонова и Кандинского – то, как они могут быть восприняты. Обсессивные практики, помноженные на личный ритуал и общее место, – и вот мало-помалу лист заполняется миниатюрными элементами, а из них составляются города и лица, неведомые существа и целые миры. Никакой тектоники, никакой логики, даже имплицитной. В этих рисунках уже нет истории, они не нарративны, не собираются в альбомы, как у ее друзей-концептуалистов, мы вообще зачастую не понимаем, что это, кто, – смысл и суть ускользают. Распределение пустоты на листах Пивоваровой зачастую фокусирует внимание на еще одной «салонной» черте – на немотивированной чрезмерной наполненности мелкими деталями. Интересно, как Пивоварова описывает процесс, в результате которого создавались ее нервные, заломанные, трясущиеся и эмоциональные линии: проводя прямую линию, она расслабляла запястье, «уговаривая» его свободно болтаться, после чего продолжала движение рукой (Пивоварова И. Круглое окно. М.: ООО «Арт Гид», 2018. С. 8). Выходит, технически такая экзальтированность рисунка достигалась посредством намеренной процедуры «высвобождения нервной линии». Думаю, то же касается и мысли: она нарочно создавала чрезмерно нервные, гротескные, алогичные, нерациональные, странные и загадочные формы. Но есть во всем этом нечто, принципиально отличающее ее от остальных представителей метафизического салона «левого МОСХа», а именно: она конструировала салон. И использовала пространство салона для того, чтобы проводить свои ни к чему не обязывающие эксперименты: только в этом синтетическом пространстве право на эксперимент можно развернуть в полную силу. И вот создавались модифицированные персонажи Соостера, Филонов заражался вирусом Кандинского, Глебова и Целков счастливо соседствовали на одном холсте – визуальный код аналитического искусства воспроизводился при помощи обсессивных техник бессознательного. Как это возможно? Лишь благодаря тому, что в салоне ничто не тождественно самому себе: пространство салона вплавляет в себя все, делая возможным свободное перетекание полярностей друг в друга. Салонное искусство зачастую не может похвастаться филигранной техникой и новаторством, но оно может органично совмещать в себе несовместимое, сглаживать острые углы «авангардных стилей». Ирина Пивоварова стала настоящей Хозяйкой Салона, поняв его слабые и сильные стороны. В свой салон она притащила лабораторные аппараты.
Мифогенная шпалера современной живописи
Наиболее ярко стилистическая программа метафизического салона МОСХа за последнее время проявилась в выставке «Грезы о молоке» (Центр Вознесенского, 2022), заявленной как «семиотические исследование» романа Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева «Мифогенная любовь каст». Интересна выставка во многом тем, что среди экспонатов преобладает станковая живопись. Да, безусловно на выставке присутствуют и объекты, и нечто вроде инсталляций, но количество живописи в технике «холст, масло» разительно отличается по сравнению с групповыми выставками современного искусства. И вся живопись – Ринат Волигамси, Егор Кошелев, Иван Разумов, Виктор Пивоваров, Алексей Бевза, группа «Россия» – относится к метафизическому салону. Кто-то уходит в иллюстративность, подобно Егору Кошелеву с его «Дунаевым и пеньком»; кто-то заставляет вспомнить Рериха, как Алексей Бевза; кто-то цитирует Васнецова, как Иван Разумов, или пробуждает настоящую мистику заброшенных троп, как Ринат Волигамси. Тем не менее это все фигуративная живопись, элементы которой то четко узнаваемы, то граничат с сюрреальным – периодически она впадает в галлюциногенные состояния, экстазы и искажения. Вся эта живопись менее дискомфортна, нежели аутентичный «салон МОСХа», но ведь и нынешними салонами управляют не чиновники и музеи, а частные собиратели. Это время не «величайшего искусствоведа – государства», это время знатока другого рода – мамлеевского Тимофея Лохматова, а потому и галлюциногенные эффекты будут несколько иными, что, безусловно, не исключает их мерцающую метафизическую суть. На выставке всего много – книжный нарратив мельтешит образами, перебегает с холста на холст, иногда исчезает вовсе, путается в воспоминаниях, эти самые образы сливаются друг с другом в плавном перетекании; отчетливо я могу лишь вспомнить и мысленно воспроизвести черновато-коричневые, как жженый сахар, картины Волигамси. «Семиотика» в подзаголовке выставки не должна сбить прозорливого посетителя с толку: об интеллектуальной упорядоченности структурализма речи не идет – это не сконструированная живопись (хотя академическая стерильность и строгость представленного на выставке Кошелева вполне может запутать), а вихрь всего со всем; элементы сюра замешаны в реальность или элементы реальности – в фантазии и причуды. Метафизическим клеем здесь выступает то самое неразгаданное молоко (белое, между прочим, как свет), выведенное в заглавие, но не отраженное в экспонатах.
Таково, в целом, положение дел в современном искусстве. Остановившись на одной выставке, я ни в коем случае не считаю, что это единственный прецедент. Но именно «Грезы о молоке» доходчиво и лаконично иллюстрируют мою гипотезу о победе «левого МОСХа». Безусловно, можно также разобрать деятельность проекта Tzvetnik или объединения «ИП Виноградов», более карьероориентированных художников: вечное ускользание их работ от однозначной интерпретации позволяет рассматривать их в качестве резидентов метафизического салона. Если не брать в расчет станковую живопись, предназначенную для реального салона, то ярким примером будет сетевое искусство зримо и воображаемо бесконечного потока генерируемых и загружаемых изображений. Телеграм-каналы условно сюрреалистического толка, вроде ULTIMA MONDO OBSCURA, также работают по принципу шпалеры (что, впрочем, свойственно телеграм-каналам как таковым): пространства в диалоговом окне между изображениями так мало, что все они сливаются в бесконечный вертикальный гобелен. В виртуальном формате телеграм-канала различия в техниках и размерах уже не имеют значения: соседствовать там могут Повзнер и Булгакова, Назаренко и Краснопевцев, Нестерова и Кабаков, Волигамси и технофутуристы, Аркадий Чичкан и Катрин Кённинг, Блейк и Ситников… Чем больше мельтешащих работ, тем яснее становится их стремление к спаянности, horror vacui, обращение к своего рода барочной перспективе. Такой взгляд наиболее точно отвечает современному искусству и современному обществу.
Стоит отметить образ художника в «метафизическом салоне»: это отнюдь не демиург, не мировой конструктор, а медиум, который всматривается в реальность и, сталкиваясь с сюрреальностью действительности, ее текучестью и складчатостью, делает слепок с такой реальности. Но активизируются все показательные свойства его работ лишь в ансамбле, который становится топосом постоянных метаморфоз.
Искусствоведческий эпилог
Но как художники в разные эпохи воспринимали такой феномен, как салон? Надо сказать, что изображение салонов в искусстве было особенно распространено в Антверпене XVII века. Комнаты искусства изображали такие художники, как Виллем ван Хахт и Давид Тенирс Младший, Рубенс и Брейгель Бархатный. Примечательно, что такие картины редко бывают пустыми: салоны населяют персонажи, в салонах кто-то встречается, салон оказывается местом действия. Но что это за персонажи, кто встречается с кем и в каком качестве? Самым интересным примером здесь является «Апеллес рисует Кампаспу» (1630) Виллема ван Хахта, где в салоне разворачивается легендарное событие: художник Апеллес в нем пишет любовницу Македонского Кампаспу, – и изображение ее настолько прекрасно, что Македонский хочет обменять живую женщину на картину. Впрочем, ничего необычного, но как именно ван Хахт изобразил персонажей? Это цитаты, имплицитные, бесшовные цитаты. Например, Кампаспа – это Мария с картины «Христос в доме Марфы и Марии» (1628) Рубенса и Брейгеля Бархатного, а Македонский – Персей, также с картины Рубенса. Старуха рядом с Кампаспой-Марией – цитата из Франса Франкена Младшего, и так далее… О чем же это говорит? А говорит это о том, что имплицитная цитатность (все-таки цитаты не явные, художник меняет персонажей, пусть немного, но все же), вплавленная в единое целое салона, – это не придумка XX века: уже в XVII веке салон воспринимался художником как плавильный котел, как место встречи, как топос обитания эфемерных героев, прикидывающихся легендарными персонажами (сродни встречам в фильме «Ночь в музее»). В нагроможденном собрании картин изначально есть нечто, что тяготеет к синтетике, к изменяющимся и текучим личинам тех, кто туда попадает. Картины на стенах – а вернее, персонажи картин на стенах салона – уже ждут своего часа, чтобы снизойти в действующие лица. Кампаспа-Мария уже появлялась у Виллема ван Хахта двумя годами ранее, в 1628 году, в картине «Галерея Корнелиса ван дер Геста» – не ожившая, а висящая на стене внутри картины. Значит, циркуляция персонажей внутри салона предусмотрена художником: диалектика ожившего и искусственного, трехмерного и плоскостного, действующего и украшающего, создающего антураж и рассказывающего сюжет – одно перетекает в другое, противясь статике. Это, безусловно, не единственная интерпретация картины Виллема ван Хахта, но в нашем случае можно ограничиться ею, наметив смутную, но уловимую связь между салонами «старого искусства» и совриском.

Салонность в искусстве – пейоратив. Мы считываем «салонное» как посредственное. Но понятие салона гораздо глубже и сложнее, чем художественный конформизм. Салонная линия в (пост)советском искусстве отчетливо прослеживается, но не артикулируется в литературе. В этом эссе я постаралась выделить несколько основополагающих черт «метафизического салона», прочертить линии в прошлое и в будущее от «левого МОСХа» как отправной точки, тем самым дав ему продолжение и корни. Кажется, что именно такое искусство сегодня отвечает духу современности. В салоне можно увидеть прообраз новейших медиумов экспонирования искусства (агрегаторов и телеграм-каналов). Современное искусство вновь возвращается к салону – модифицированному, усложненному, многомерному, которому еще предстоит осознать себя и свои истоки. Но нет сомнений, что ревизионистская история современного искусства России может быть прочитана с точки зрения метафизического салона.
- Речь о картинах «Человек и домик» и «Бердянская коса».
- Якимович А. Позднесоветское искусство России, 1960–1990 // Иньшаков А. (сост.) Позднесоветское искусство России: Проблемы художественного творчества. М.: БуксМАрт, 2019. С. 418–422.
- Мастеркова-Тупицына М. Лидия Мастеркова: право на эксперимент. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022. С. 10–12.
- Беньямин В. Девять работ. М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс». С. 206.
- Мастеркова-Тупицына М. Лидия Мастеркова: право на эксперимент. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022. С. 10–12.
- Важное исключение здесь составляют работы Нестеровой на библейские сюжеты.
- Метафизический салон «левого МОСХа» относится к кэмпу подобно тому, как московский романтический концептуализм относится к концептуализму западному. Сложно не отметить близость феномена кэмпа, каким его зафиксировала в 1964 году Сьюзен Сонтаг, метафизическому салону. Оба они «эзотеричны» и в этой «эзотеричности» являются отличительными знаками определенных сообществ, оба оказываются чересчур экзальтированными, оба низвергают «хороший изящный вкус», оба восприимчивы к XVIII веку, оба театрализуют опыт, оба традиционно в представлении искусствоведов – примеры «плохого искусства», оба тяготеют к интермедиальности, оба серьезно относятся к собственным темам, оба могут вызывать снисходительный смешок. Вот только кэмповские образы вдохновлены Оскаром Уайльдом, в то время как метафизический салон отсылает к Гоголю. Кэмп андрогинен и сексуален, а метафизический салон романтичен и женственен, но асексуален. Кэмповские вещи «суть-то-чем-они-не-являются» – вещи метафизического салона ускользают от апофатического определения так же, как и от четкого позитивного определения. Кэмп – это денди, а метафизический салон – самоотверженный интеллигент («поэт в России – больше, чем поэт»). Как создать современное искусство в России невозможно без Фаворского света, так и кэмп тут невозможен без мессианской фигуры художника и интеллигентского псевдо-культа – с его духом паломничества и самоотверженности во имя искусства, или, проще говоря, с его чуждыми лукавой иронии «духовкой и нетленкой». Кэмп секулярен, его максимум – бытовая магия и суеверность, он имманентен; метафизический салон религиозен в своей сути и признает трансценденцию.
- Имеется в виду «Песня колхозника о Москве» Л. Десятникова из саундтрека к фильму А. Зельдовича «Москва» – переосмысление «Песни колхозника о Москве», написанной Ф. Масловым в 1939 году.
- Сьюзен Сонтаг упоминает в своих «Заметках о кэмпе», что кэмп, осознавший себя таковым, уже не является удачным (Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 296). Но что будет, если метафизический салон осознает себя метафизическим салоном и концептуализирует себя? История советского искусства знает такой пример. Речь о поэтессе, писательнице и художнице Ирине Пивоваровой, вхожей в круг московских романтических концептуалистов. Ее художественное наследие ограничивается графикой, что отчасти не удивительно, ведь свою художественную деятельность она воспринимала как побочную – все упоминающиеся ниже рисунки датируются 1960–1970 годами. На первый взгляд они – чистый салон. Сюжетно это городские сказочные пейзажи, портреты странных и зачастую малоприятных персонажей, обнаженные женские тела, переплетенные стволы деревьев и то, что можно назвать сюрреалистическими проявлениями бессознательного, то, что мы чертим на полях тетрадок во время урока, лекции или заседания. Женские фигуры экзальтированные, манерные; как персонажи, так и элементы пейзажа невнятны. Но, приглядевшись, нетрудно заметить те самые бесшовные цитаты: в «Мертвой голове» узнается типичная рожа Целкова, только в профиль; странные «инопланетные» существа напоминают обитателей мира «Стеклянной гармоники» Юло Соостера. Женские портреты заставляют вспомнить графические же портретные работы Татьяны Глебовой (например, «Критик» и «Семья критика» 1937 г.). Два портрета схожего колорита (видимо парные, женский и мужской) представляют собой странное смешение техник Филонова и Кандинского – то, как они могут быть восприняты. Обсессивные практики, помноженные на личный ритуал и общее место, – и вот мало-помалу лист заполняется миниатюрными элементами, а из них составляются города и лица, неведомые существа и целые миры. Никакой тектоники, никакой логики, даже имплицитной. В этих рисунках уже нет истории, они не нарративны, не собираются в альбомы, как у ее друзей-концептуалистов, мы вообще зачастую не понимаем, что это, кто, – смысл и суть ускользают. Распределение пустоты на листах Пивоваровой зачастую фокусирует внимание на еще одной «салонной» черте – на немотивированной чрезмерной наполненности мелкими деталями. Интересно, как Пивоварова описывает процесс, в результате которого создавались ее нервные, заломанные, трясущиеся и эмоциональные линии: проводя прямую линию, она расслабляла запястье, «уговаривая» его свободно болтаться, после чего продолжала движение рукой (Пивоварова И. Круглое окно. М.: ООО «Арт Гид», 2018. С. 8). Выходит, технически такая экзальтированность рисунка достигалась посредством намеренной процедуры «высвобождения нервной линии». Думаю, то же касается и мысли: она нарочно создавала чрезмерно нервные, гротескные, алогичные, нерациональные, странные и загадочные формы. Но есть во всем этом нечто, принципиально отличающее ее от остальных представителей метафизического салона «левого МОСХа», а именно: она конструировала салон. И использовала пространство салона для того, чтобы проводить свои ни к чему не обязывающие эксперименты: только в этом синтетическом пространстве право на эксперимент можно развернуть в полную силу. И вот создавались модифицированные персонажи Соостера, Филонов заражался вирусом Кандинского, Глебова и Целков счастливо соседствовали на одном холсте – визуальный код аналитического искусства воспроизводился при помощи обсессивных техник бессознательного. Как это возможно? Лишь благодаря тому, что в салоне ничто не тождественно самому себе: пространство салона вплавляет в себя все, делая возможным свободное перетекание полярностей друг в друга. Салонное искусство зачастую не может похвастаться филигранной техникой и новаторством, но оно может органично совмещать в себе несовместимое, сглаживать острые углы «авангардных стилей». Ирина Пивоварова стала настоящей Хозяйкой Салона, поняв его слабые и сильные стороны. В свой салон она притащила лабораторные аппараты.